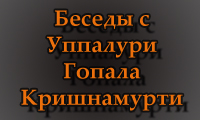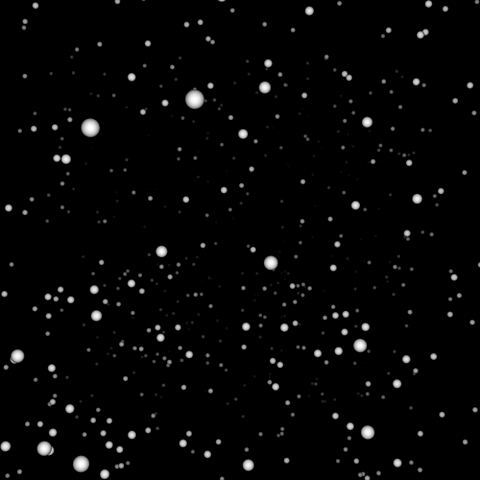Я уже отдан силе,
что правит моей судьбой.
Я ни за что не держусь,
поэтому мне нечего защищать.
У меня нет мыслей,
поэтому я увижу.
Я ничего не боюсь,
поэтому я буду помнить себя.
Отрешенный, с легкой душой,
я мимо Орла проскочу,
чтобы стать свободным.
* * *
БАЛЛАДА О БЕСПОМОЩНОСТИ
Александр, — сам философ
и зная философам цену, —
Появившись в Коринфе,
велел привести Диогена.
А когда Диоген
объявил царедворцам, что занят,
Царь пошел к нему сам,
любопытными щурясь глазами.
Тот, подставив под солнце
волос седоватые клочья,
Возлежал отрешенно
у старой обветренной бочки.
Был он в рубище,
грязном, худом и корявом.
А на случай зимы
обладал одеялом дырявым.
Царь спросил у него,
не дождавшись ни просьб, ни вопросов:
— Что тебе подарить,
чем помочь тебе, мудрый философ? —
Диоген, усмехнувшись,
ответил угрюмо и строго:
— Что ты можешь мне дать?
И того, что имею я, много.
Мир коварен.
Дряхлеет душа от его подаяний.
Хочешь счастье узнать —
откажись от надежд и желаний.
— Но ведь я — Александр.
Всюду ждут меня люди, ликуя.
Для тебя, может, все-таки
что-нибудь сделать могу я?
— Можешь, —
пошевелил Диоген сединою. —
Отойди. Ты стоишь
между солнцем и мною. —
Царь схватился за меч,
но к чему ему серый посредник,
Если, веки закрыв,
позабыл про него собеседник.
Лев Ошанин.
* * *
КОНЕЧНЫЙ ПУТЬ
...И я уйду. А птица будет петь как пела, и будет сад, и дерево в саду, и мой колодец белый. На склоне дня, прозрачен и спокоен, замрет закат, и вспомнят про меня колокола окрестных колоколен. С годами будет улица иной; кого любил я, тех уже не станет, и в сад мой за беленою стеной, тоскуя, только тень моя заглянет... И я уйду; один - без никого, без вечеров, без утренней капели и белого колодца моего... А птицы будут петь и петь, как пели. Хуан Рамон Хименес.
* * *
БАЛЛАДА О ДОВЕРЬЕ
Если заговоры повсюду
Окружают царя царей,
Как веселье сберечь и удаль,
От льстецов отличать друзей?
Войско царское на пороге
Новых яростнейших побед.
Все ему удается. Боги
С черной завистью смотрят вслед.
А царю изменила сила —
Словно всю ее сжег дотла.
Лихорадка его скрутила,
Руки-ноги ему свела.
Что виной тому? Не вода ли,
Где купался, оледенев?
Или яд ему подмешали?
Или божий свершился гнев?
У друзей его беспокойство,
Неотрывная маета —
Шепота поползли по войску,
Разношерстные шепота.
То ли завтра поход победный
За невидимую черту,
То ли слава мелькнет бесследно
Солнцем, канувшим в черноту…
Неразнеженный царь, солдатский,
Сжал, чтоб не было крика, рот.
А врачи подойти боятся —
Что, как он невзначай помрет?
Лишь Филипп, мрачноватый, хмурый,
Не покинул его порог.
Всею тощей своей фигурой
Независим, колюч и строг.
— Щедро болен ты, царь. Быть может,
Смерть уже к тебе на пути.
А доверишься мне, я все же
Попытаюсь тебя спасти.
А в глазах у царя застряла
Смерти жесткая стрекоза.
То замрет, то начнет сначала…
Он от боли закрыл глаза.
Поворочал худую думу,
«Верю», — выронил наконец.
Варит зелье Филипп угрюмо.
А в шатер до царя гонец.
Весь в пыли гонец. Дышит зычно.
Трем коням ободрал бока.
Царь в беспамятстве. Но привычно
Прямо к свитку ползет рука.
И папирус из рук не выпал,
И развернут он и прочтен.
То в измене врача Филиппа
Обвиняет Парменион.
Будто взгляд у него насуплен,
Будто мрачен он весь не зря.
Будто персами он подкуплен,
Чтоб сумел отравить царя.
Царь смежил тяжелые веки —
И в тенях перед ним прошли
Все пути, все бои, все реки
От отцовской его земли.
Старый Парменион, он верен, —
Был в чести еще у отца.
А Филипп глядит полузверем,
Полумаскою мудреца.
Всем победам пришло похмелье.
Жаркий волос ко лбу прилип.
— Царь, ты спишь? —
это чашу с зельем
Преподносит ему Филипп.
— А, Филипп, — царь очнулся сразу,
Прямо в душу врача смотря.
Своему доверял он глазу,
Это все-таки глаз царя.
А Филипп, словно так и надо,
Все острее сужал зрачки, —
Два прямых, два упрямых взгляда,
Два достоинства, две тоски.
Ну а что, как царь отвернется,
Полоснет недоверьем вдруг…
Ведь не зря его полководцы
Словно памятники вокруг.
Познакомь он их с письменами, —
Не сочтешь и до двух минут,
Как Филиппа побьют камнями
Иль на копья его взметнут.
И Филипп отступил невольно.
— Что ты, царь? — Он поправил край
Одеяла. — Нещадно больно? —
Царь глаза опустил…
— Давай! —
Это миг, что давно вчерашен,
К нам историк едва донес —
Царь берет у Филиппа чашу,
А Филиппу дает донос.
Пьет. И жадно следит очами,
Как меняется врач лицом,
Словно буря перед молчаньем,
Словно рыба перед концом.
Но стихает боль понемногу,
Веки медленные смежив.
Царь поверил врачу как богу
И за это остался жив.
Лев Ошанин.
* * *
Не торопись, поскольку все дороги тебя ведут единственно к себе. Не торопись, иначе будет поздно, иначе твое собственное "я", ребенок, что ни миг - новорожденный и вечный, не догонит никогда! Хуан Рамон Хименес.
* * *
БАЛЛАДА О ДОБРОТЕ
Когда Александр Македонский
Прошел по персидской земле,
Удача за ним, как девчонка,
Бежала в крови и золе.
И, суд победителя правя,
Ликуя, казня и даря
Уже о всемирной державе
Колотятся мысли царя.
Теперь города не боролись,
Встречая его храбрецов, —
И вот он вступил в Персеполис —
В персидскую песню дворцов.
Племен многоречье связял он
И дарит им царственный мир —
Под сводами тронного зала
Пирует герой и кумир.
Напрасно ворчат македонцы,
Что много чужих за столом —
Над ним азиатское солнце
И знатные персы при нем.
В кругу полководцев владыка,
С которыми слава полней, —
Играет бровями Фердикка,
И крутит усы Птолемей.
А царь мимо званого люда
Глядит изумленно вокруг
На тонкую роскошь, на чудо
Неистовых варварских рук.
В плену златотканых полотен
Колонны на всю высоту..
Не зря его сам Аристотель
Учил понимать красоту.
А чаша за чашей… Хмелея
В веселье своем не таись!
И пьет у колен Птолемея
Ночная гречанка Таис.
Она появилась, как шалость.
Потом полудетским огнем
Его обожгла, и осталась
На многие версты при нем.
Поднявшись с колен, пламенея,
Неся на одежде зарю,
Ночная душа Птолемея
Приблизилась с чашей к царю.
Он встал ей навстречу нежданно, —
Как будто сама красота
Зовет его гибкостью стана
И гордою линией рта.
Он слышать слова её хочет.
Но что с ней? Под сводом дворца
В тенях подступающей ночи
Таис не поднимет лица.
Темнее ливанского кедра…
Ресницы опущены вниз.
Он молвил:
— Сегодня я щедрый,
Проси чего хочешь, Таис. —
Живая она или снится?
Забава она иль беда?
Таис поднимает ресницы:
— Все выполнишь, солнечный?
— Да. —
Она, позабыв о веселье,
Кривя вызывающий рот,
Срывает с себя ожерелье,
Одежду из пурпура рвет.
— Ты с персами пьешь эти вина,
Неужто забыть мы должны,
Как персами были Афины,
Афины мои, сожжены! —
Царь с поднятой чашею замер.
— О чем же ты просишь меня? —
Таис потемнела глазами.
— Чего же ты хочешь?
— Огня! —
Исполнена пьяной отваги,
Беспутною местью горя,
Хватает пылающий факел,
Несет его в руки царя.
И персы ресницами машут —
Как примет он женскую речь?
В руках его факел и чаша.
Что станет он — пить или жечь?
А вечный любимец удачи,
Прищурясь, оглядывал зал —
Искусней, щедрей и богаче
Он чуда на свете не знал.
Но, словно москиты за пояс,
Ползут в его душу слова:
Пока будет жив Персеполис —
И Персия будет жива.
И кажется роскошь немилой,
Неполным его торжество —
Быть деспотом в варварском мире
Учил Аристотель его.
Гремят македонские трубы, —
Одна его воля светла.
Целует он женщину в губы
И делает шаг от стола.
От имени конных и пеших,
Порожняя чаша, катись…
А ну, почему не потешить
Ночную гречанку Таис.
Таис на колени упала,
Храня его губ теплоту.
За ним меж колоннами зала
Глаза её чертят черту.
Качается тень великана,
Над персами факел царит,
И занавесь златотканый,
Царем подожженный, горит.
Со свистом и хохотом диким
Этеры бегут от скамей.
Швырнул свою чашу Фердикка,
Светильник схватил Птолемей.
Взметнулись нелепые тени,
Распахнуты криком уста.
В тревоге нежданных сплетений
Роскошно горит красота.
И царь ужаснулся. А пламя —
Как обруч вокруг головы.
Услышал он хруст под ногами
И запах горелой травы.
Пожар, как неровная стрижка,
Все с ходу хоронит в дыму.
А царь, он едва не мальчишка —
Давно ли за двадцать ему…
Прихлынуло войско царево —
Каков разворот этих плеч!
Он знает, им надобно слово,
Что делать — гасить или жечь?
Быть может, спасти еще можно,
Чтоб чудо не сгинуло зря…
А войско в одежде дорожной
С надеждой глядит на царя.
А царь? Он спокоен и собран,
Возник у огня на краю
И крикнул:
— Сегодня я добрый,
Весь город я вам отдаю! —
Отхлынули воины сразу,
По легкому слову царя
Насилье, резню или кражу, —
Что вздумает каждый, — творя.
Где к золоту метят добраться,
Где чашу несут, где хитон.
Где плач угоняемых в рабство,
Случайно затоптанных стон…
Так занято войско делами,
Полно беспощадных хлопот.
Над всем этим дикое пламя
Привычной победы встает.
В смещении мрака и света
Вошла в перехруст, в пересвист —
Безжалостна, полуодета —
Ночная гречанка Таис.
Царь видел, как властно и гордо,
Этерами окружена,
Губу прикусив от восторга,
Чинила расправу она.
Но странно —
ни глаз её сливы,
Ни стан, ни пылающий рот
Теперь не казались красивы.
В душе его ширился лед.
Стоял он угрюм, безучастен,
И сам он не знал, почему
От радости силы и власти, —
Ничем не стреноженной власти,
Вдруг стало печально ему.
Лев Ошанин.
* * *
Я не я. Это кто-то иной, с кем иду и кого я не вижу и порой почти различаю, а порой совсем забываю. Кто смолкает, когда суесловлю, кто прощает, когда ненавижу, кто ступает, когда отступаюсь, и кто устоит, когда я упаду. Хуан Рамон Хименес.
* * *
БАЛЛАДА О БЕЗРАССУДСТВЕ (отрывок)
…
Он у мачты сидит. И молчит о своем.
Безрассудство…. А где его грань?
Сложен суд…
Где отвага и глупость границу несут.
Вспомнил он, как под вечер, устав тяжело,
Войско мерно над черною пропастью шло.
Там персидских послов на окраине дня
Принял он второпях, не слезая с коня.
Взял письмо, а дары завязали в узлы.
— Не спешите на битву, — просили послы. —
Замиритесь с великим персидским царем.
— Нет, — сказал Александр, — мы скорее умрем.
— Вы погибнете, — грустно сказали послы, —
Нас без счета, а ваши фаланги малы. —
Он ответил:
— Неверно ведете вы счет.
Каждый воин мой стоит иных пятисот. —
К утомленным рядам повернул он коня.
— Кто хотел бы из вас умереть за меня? —
Сразу двинулись все.
— Нет, — отвел он свой взгляд, —
Только трое нужны. Остальные — назад.
Трое юношей, сильных и звонких как меч,
Появились в размашистой резкости плеч.
Он, любуясь прекрасною статью такой,
Указал им на черную пропасть рукой.
И мальчишки, с улыбкой пройдя перед ним,
Молча прыгнули в пропасть один за другим.
Он спросил:
— Значит, наши фаланги малы? —
Тихо, с ужасом скрылись в закате послы.
…
Лев Ошанин.
* * *
Без знатных званий и фамилий Он начинал как санкюлот, Шел как на пир, на штурм Бастилии, Кричал: "Да здравствует народ!" Не знал, что ждет его корона, И власть державная при том. Что генерал Наполеона, Он станет шведским королем. Двором лукавым возвеличен, И сам поверив, что велик, С годами стал он деспотичен, К одеждам царственным привык... Когда ж монарха хоронили, В костеле, словно божество, Когда с почтеньем обнажили Плечо державное его, Под роскошью экиппировки Узрел весь двор, пришедший в храм Слова былой татуировки: "Смерть королям, смерть королям!" Николай Доризо.
* * *
ТАЕЖНАЯ БАЛЛАДА
К костру старика подошел молодой
С глазами, наполненными бедой.
И на землю, сдвинув с плеча ремешок,
Швырнул горностаевых шкурок мешок.
Вокруг – лишь кедровок простуженный крик.
«Однако, добытчик!» — подумал старик,
Подвинув к нему подоспевший кулеш,
Сказал молодому: — Однако, поешь. —
Лишь ветер сбегал по ветвям сосняка,
Лишь ложка гремела о край котелка.
— Добро! – Молодой сунул ложку в сапог. –
Изрядно зажился ты, старый пенек!
Но, может быть, снова к тебе я приду,
Еще ты умеешь готовить еду! –
Безжалостным смехом зайдясь молодым,
Куражась, блеснул он зубами сквозь дым.
И вдруг его каменная рука
Схватила и сжала плечо старика.
— Послушай, с чего б это: в чаще лесной
Глаза неотступные ходят за мной?
Сквозь ветви, сквозь хвою и ночью и днем
Я чувствую их на загривке своем.
С чего это? – Руку убрал он с плеча…
Старик не спеша подложил кедрача.
Когда языки огневые взвились,
Ответил негромко старик: — Это рысь. –
И, зная, как тропка ночная хитра,
Вздохнул он: — Однако, поспи у костра. –
Юнец не ответил. Он встал, и зевнул,
И прочь от костра в темнолесье шагнул.
Старик повернул за ним следом лицо,
Услышал, как тяжко ложатся шаги,
Подумал: «Однако, боится тайги», —
И встал неторопко, и взял ружьецо.
Бесшумно, как в воду, нырнул он в тайгу,
Стал стройным на быстром и легком шагу,
Была ему каждая тропка своя,
Он сам был, как лес, как сосна, как хвоя.
Затихнув, услышал он шорох в кустах, —
Там зверь, его злоба сильнее, чем страх.
Зверь замер. Сейчас он сорвется во тьму,
Навстречу добыче, на плечи к тому.
А тень молодого качалась вдали,
Сливаясь с тенями стволов и земли.
Зверь прыгнул. Но в злобе слепого прыжка
Был срезан коротким огнем старика.
И, ставший тяжелым, ломая кусты,
Он рухнул беззвучно за край темноты.
Юнец постоял, подтянул ремешок,
Надел поудобней тяжелый мешок
И двинулся дальше, тихонько ворча,
Что лучше б старик не жалел кедрача,
Что лучше бы спал, привалившись к кусту,
Чем попусту ночью палить в темноту.
Лев Ошанин.
* * *